Со вчерашнего утра с Украины сплошным ворохом летят жуткие фронтовые сводки. Происходящее похоже на страшный сон, верить в который моё естество просто отказывается. Всё это — будто фильм ужасов, в котором самое пугающее то, что это — вовсе не кино. Очень хочется спрятаться от всех этих душераздирающих историй, фотографий, видео хоть куда, не знать ничего, вернуться в позавчера, когда мир ещё был другим. Где можно вернуться к последней сохранённой версии реальности, покажете?..
В таких исторических поворотах, когда от их крутизны уже физически мутит, неожиданно начинаешь понимать людей, которые вдруг ни с того ни с сего ударяются в религию. И возможно, не будь у меня семьи, я бы сейчас тоже на несколько дней уехал в какой-нибудь тихий монастырь, чтобы спрятаться там от всех этих од в поддержку «специальной военной операции» и просто побыть пару дней наедине с собой. Но выбирать не приходится — я остаюсь в Санкт-Петербурге. И покуда «валить» никуда не планирую, то расскажу вам про одно духовное место, куда я совершенно случайно попал за месяц до нынешних событий, когда небо над крупнейшей страной Европы ещё было мирным. Добро пожаловать из шумной неспокойной реальности в тихую Важеозерскую обитель.
В середине января дела государственной важности в очередной раз вынудили меня отправиться в Петрозаводск. Ранним утром — туда, после обеда — обратно, на круг — без малого девятьсот километров, терпимо. С делами вышло не очень, настроение было припущенным, и, рассекая на ста тридцати снежно-грязевую морось на знакомой до прожилок «Коле», я подумывал: а не свернуть ли мне куда-нибудь с шумной трассы — прогуляться да подышать свежим воздухом.
Под эти размышления я неожиданно вспомнил, как ещё десять с небольшим лет назад, первый раз собираясь в Кижи, отметил для себя один монастырь. Расположенный буквально в паре шагов от шумной федеральной трассы он сильно отличался от всех виденных мной до этого «традиционных» русских обителей своим резным деревянным храмом, построенном в исконно финском стиле и своим видом скорее похожим на лютеранский, чем на православный, и такими же резными братскими корпусами. В ту поездку мы до Важеозерской обители так и не добрались, и я на целые десять лет про неё совершенно забыл, а здесь она как-то неожиданно всплыла из моей памяти. «Наверное, знамение», — ухмыльнулся я, и через несколько километров свернул с загруженной фурами «Колы» на тихую лесную дорогу, ведущую к монастырю.
К её отполированному ледяному полотну, извивающемуся во все стороны будто огромная белоснежная змея, клонились утяжелённые многокилограммовыми снежными шапками здоровенные деревья. В воздухе висел морозный туман, укрывавший своей пеленой верхушки старых сосен, так что со стороны казалось, будто я еду куда-то в горы.

Был вторник, 19 января. Православный мир праздновал Крещение Господне (христианский праздник, когда, согласно евангельскому повествованию, к проводившему ритуальные омовения в Вифаваре Иоанну Крестителю пришёл Иисус из Назарета, после этого начавший своё общественное служение в роли Мессии).
До революции на Руси в этот день было принято совершать крестные ходы на «иордань» — вырубленную на реках или озёрах прорубь в виде креста, где происходило «водосвятие» — освящение воды в ходе специального молебна, после чего ей можно было окроплять всех и вся (людей, иконы, гвардейские знамёна, дома, хозяйственные постройки и даже домашнюю скотину и птицу) или просто пить. Именно благодаря этому обычаю, например, получила своё название знаменитая Иорданская лестница в Зимнем дворце: по ней императорская семья выходила к вырубавшейся каждый год на Неве «иордани». Интересно, что распространённый ныне обычай купания на Крещение, ещё в конце XIX века не имел распространения и многими священниками наоборот — осуждался, как имеющий языческие корни.
Я очень далёк от любого христианского ритуализма. Но с другой стороны, когда как не в такой праздник ехать посещать православную святыню, тем более такую забвенно-патриархальную, бесконечно далёкую от мракобесия современного мира, где крещенское омовение давно превратилось в какой-то публичный показ купальников, большинство участников которого в жизни не слышали ни про один христианский догмат.

Пятнадцатикилометровая дорога заканчивается в населённом пункте с незамысловатым коммунистическим названием Интерпосёлок. Он появился в начале 1930-х годов, когда в США началась Великая депрессия, и многие успевшие эмигрировать за океан финны и карелы устремили свои взоры на молодой СССР. В последнем в это время как раз бурно цвели различные национальные движения, те же карельский и финский языки изучались в школах, на них издавались газеты, переводилась литература. С начала экономического кризиса в «капиталистическом аду» прошло всего несколько месяцев, и из США с Канадой, а заодно и из Финляндии, в существовавшую в то время в составе РСФСР Автономную Карельскую Социалистическую Советскую Республику потянулся поток переселенцев, надеявшихся обрести лучшую жизнь в «социалистическом раю». В Нью-Йорке и Торонто в то время работали специальные комитеты, которые занимались вербовкой финноязычных эмигрантов, готовых отправиться на строительства социализма в СССР. С 1930 по 1935 годы в Советскую Карелию переехало из-за границы свыше семи тысяч человек, и в финскую историографию даже был введён отдельный термин, посвящённый этому периоду, — «Karjalan kuume» («Карельская лихорадка»).
Ряд эмигрантов осел в Петрозаводске (где до сих сохраняется построенное ими в стиле финского романтизма здание треста «Кареллес»), другие оказались разбросаны по новообразованным рабочим поселениям, одним из которых как раз и стал Интерпосёлок. В 1931 году на базе разрушенного незадолго до этого Важеозерского монастыря был образован лесосовхоз «Интернационал», в котором поселились первые 25 эмигрантов.
Занятно почитать описание этого процесса в прессе того времени. Вот, например, цитата из статьи в журнале «Карело-Мурманский край» (№7-8 за 1932 год):
Ещё недавно в стране капитала совхозники «Интенационала» были разрозненными рабами, притупляющая нищета и бесправие были их уделом. Теперь они хозяева в своей стране.
 Журнал «Карело-Мурманский край». №7-8, 1932 годИсточник: Электронная библиотека «Кольский Север»
Журнал «Карело-Мурманский край». №7-8, 1932 годИсточник: Электронная библиотека «Кольский Север»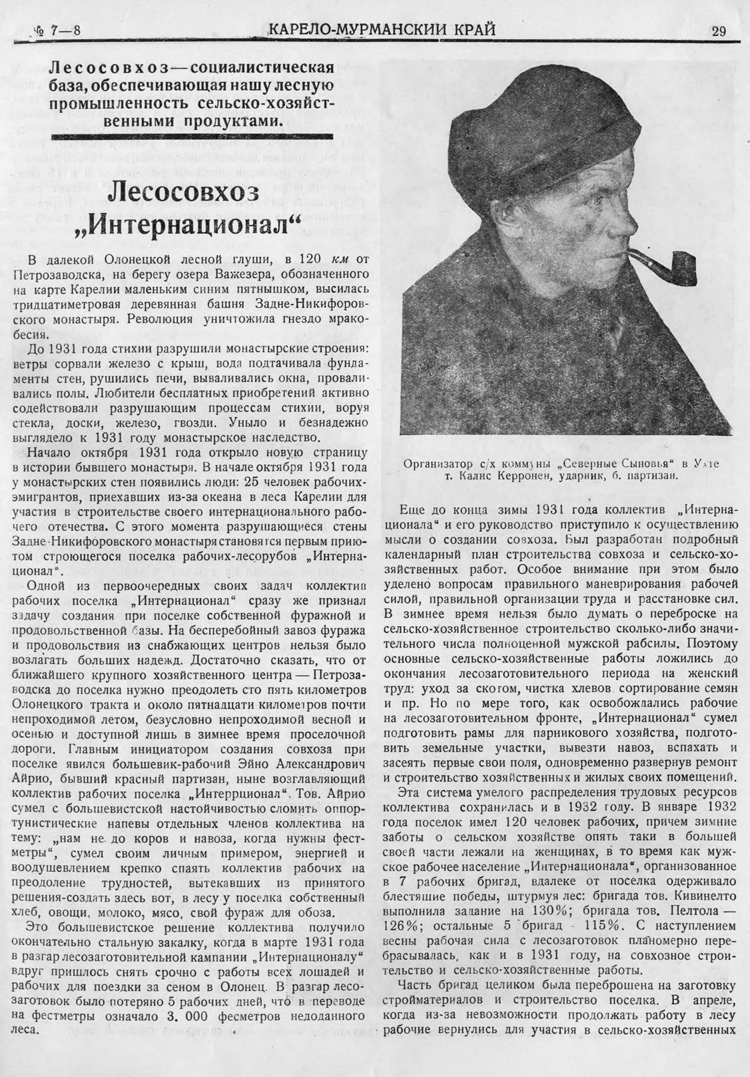 Журнал «Карело-Мурманский край». №7-8, 1932 годИсточник: Электронная библиотека «Кольский Север»
Журнал «Карело-Мурманский край». №7-8, 1932 годИсточник: Электронная библиотека «Кольский Север»
 Журнал «Карело-Мурманский край». №7-8, 1932 годИсточник: Электронная библиотека «Кольский Север»
Журнал «Карело-Мурманский край». №7-8, 1932 годИсточник: Электронная библиотека «Кольский Север» Журнал «Карело-Мурманский край». №7-8, 1932 годИсточник: Электронная библиотека «Кольский Север»
Журнал «Карело-Мурманский край». №7-8, 1932 годИсточник: Электронная библиотека «Кольский Север»
Спустя буквально несколько лет некоторые из «хозяев своей страны» были заклеймены как «враги народа», после чего расстреляны. К 1935 году поток переселенцев в СССР начал резко иссякать. Те немногие, кому удавалось живыми удрать из «социалистического рая» обратно в «капиталистический ад», рассказывали там такие ужасы о советских реалиях, что новых желающих переселяться уже не было. Вскоре Советский Союз спрятался от мира за «железным занавесом», и мы так до сих пор и не подозреваем, а наверное — никогда уже и не узнаем, сколько финских и карельских переселенцев были в итоге репрессированы и растерзаны красными палачами в годы Большого террора.
В наши дни в Интерпосёлке регулярно проживает всего три десятка человек. Общественный транспорт сюда не ходит. В посёлке нет ни фельдшера, ни аптеки, ни магазина. Молодёжи тоже нет. И если будущего у Интерпосёлка — скорее всего нет, то расположенный на его окраине монастырь — наоборот постепенно набирается сил, и даже с осторожной уверенностью смотрит в завтрашний день.
Согласно преданию, Важеозерская обитель была основана духовным учеником Александра Свирского старцем Геннадием, который поселился в землянке на берегу озера Важе около 1500 года. В последующие четыреста лет монастырь, как и многие другие русские обители, переживал взлёты и падения, то закрываясь, то вновь возрождаясь. Сразу после революции монастырь был разорён, и позднее в его строениях разместился лесосовхоз «Интернационал». После Второй мировой войны в стенах бывшей обители была устроена колония для малолетних преступников, а потом — психиатрическая больница. Сразу после развала Советского Союза монастырь был возрождён как женский, а в 2000 году преобразован в мужской, коим с тех пор и является. Сейчас на территории Важеозерской обители проживает 25 человек, большинство из которых — богорадники (читай: трудники).

В монастыре — очень тихо. Не видно ни иноков, ни трудников, никого, будто обитель — вымерла. Только к расположенной посреди скованного льдом безмолвного озера часовне, в которой устроена купель, нет-нет да и устремится специально приехавший сюда откуда-нибудь издалека верующий.


Территория Важеозерского монастыря — опрятна и ухожена. Со стороны всё это очень похоже на чудесный уголок Финляндии, каким-то чудом переместившийся вглубь олонецких лесов.


Главный монастырский храм — Преображенская церковь. Её возвели в 1885 году.

Щедро украшенный резными карнизами и белоснежными наличниками, храм выкрашен в необычный коралловый цвет. Три входа, расположенные с разных сторон, украшены массивными крыльцами с резными перилами и колоннами.

Чуть в стороне от деревянной Преображенской церкви расположена каменная церковь Всех Святых. Её тоже построили в конце XIX века.


Третья монастырская церковь — Иоанна Рыльского и Иоанна Кронштадтского.

Она, правда, больше похожа на какой-нибудь сказочный русский терем, чем на православный храм.

Ещё на территории монастыря расположено несколько братских корпусов, настоятельский и игуменский дома, хлебопекарня, трапезная и мастерские.

Все они соединены между собой узкими тропками, прокопанными через полуметровый снежный наст.



Несколько раз пройдя по каждой из тропок, заглянув одним глазком во все церкви и даже в хлебопекарню, я решил напоследок запустить коптер. В пятидесяти метрах над землёй висела морозная дымка. Лишь поднявшись до её границы чудо китайской инженерной мысли ругнулось на неподходящие погодные условия и камнем устремилось в ближайший сугроб. Причина падения оказалась банальной — пропеллеры за несколько минут полёта покрылись толстенной коркой льда.
Несколько фотографий я, конечно, успел сделать — но они туманны и размыты, будто на них не Важеозерский монастырь, а Сайлент Хилл какой-то. Ни один коптер при съёмке этих кадров в итоге не пострадал.




За сим на сегодня всё.
Не переключайтесь!

